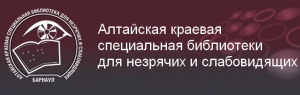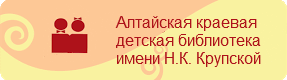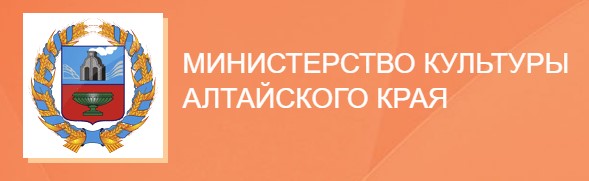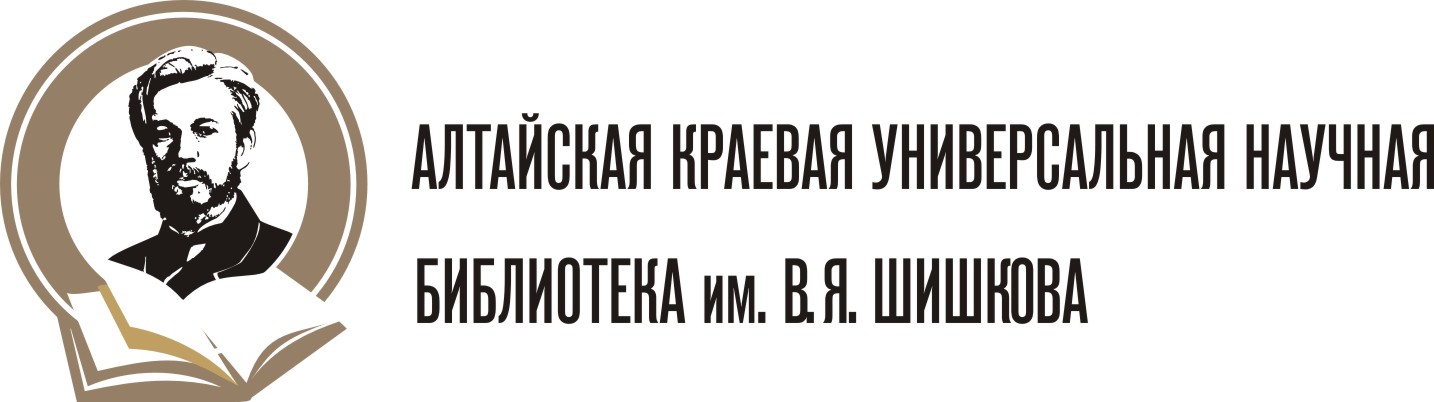Горн экзаменовал меня: «Каватину Фауста знаешь?» – «Знаю». – «Можешь?»
– Какое чувствую волненье, – начинал я с речитатива и пел до конца, верхнее «до» брал фальцетом, конечно. Женя слушал, время от времени задевая Виктора:
«Ну, что, съел?»
Столкнул однажды с оперных подмосток только Александр Родионов. Послушав мои теноровые порхания, спросил: «Арию Досифея из «Хованщины» – вот что спел бы, а?» – Увы, этого я не мог. Слушал, конечно, и не раз, но властительный инок на голос не ложился. Вот Иван Сусанин был по мне, да и гости гущинские его любили, и хозяин слушал всей душой. «Велят идти, повиноваться надо…» – грустное, лиричное, само выливалось. «Чуют правду» захватывало дух волчьим воем в середине монолога: «Мой смертный час…» «о», «е», «а» с такой голодной тоской изливали душу…
Забавно, что самый лучший комплимент я получил в Новосибирской гостинице, где мы, участники литературного семинара, собрались в одном номере и здорово распелись. Коридорная подошла к нашей двери, стукнула и попросила, дослушивая мое «Я встретил вас…» – «Ребята, хватит. Выключайте радио!»
Заказами не испытывал меня почти никогда только Гущин. Просто просил: «Спой, Володя!» Даже звонил иногда откуда-то и, услышав меня, просил: «Извини, Володя, спой что-нибудь! Прямо в телефон!» – «Да что спеть-то?» – растерянно вопрошал я. – «Спой, что захочешь…» Конечно же, я не отказывал другу, вслушивался в его настроение, вылавливал подходящее нечто и пел…
Позже, когда я познакомился с его фонотекой, широко включавшей симфоническую, камерную и оперную классику, романсовую лирику, – удивился почти полному совпадению интересов. Музыка нас связала. В первую очередь. Но не только она. Связывал интерес к людям, втягивающий в путешествия по краю с выступлениями – перед крестьянами в пору уборки урожая, перед военными – в мае (День пограничника) и феврале (День защитника Отечества). Мой генеральный Владимир Захаров моим отлучкам споспешествовал.
Правда, интерес к людям не затухал и в прописные дни. Бывало, воскресным утром проснемся с Людочкой на даче Гущина в Лосихе, а его уже нет. Мастерит что-нибудь или у кого-то из лосихинцев с беседой обретается. У женщин завтрак готов, а его все нет.
Дача у него – это не место для отдыха, здесь крестьянствует он и – пилит, строгает, фугует, на просторном чердаке полный подбор плотницких и столярных инструментов и приспособлений. Пахнет смолой и свежей стружкой. За работой фразы только деловые. Проходит час в работе – перекур. Курит он, а я сижу и фантазирую на разные темы. Смотрит сквозь дым, кивает или улыбнется в свои великолепные усы, если я завлекусь в дебри непролазные.
Однажды ночью, в остывшей баньке, пришлось нам вместе поработать. Работа редкая. Прежде, чем о ней рассказать, надо напомнить, что Гущин охотничал и в зиму уходил на свой путик в прителецкой тайге. Зимовал в охотничьей избушке, вязал петли на белок, отслеживал соболей. Лайка – кобель или сука – всегда у него были под рукой. И в городе дома держал, и у Солечева в Иогаче. Но на моей памяти соболя не приносил никогда. Мог, но не приносил. По-моему, жалел он этих таежных красавцев, с неприязнью оглядывал городских модниц, носивших соболиные шапки.
Алексей же, дамский угодник, подарил Людмиле пару соболей, которых нужно было выделать.
– Вот этот котяра усатый, – кивал он на Гущина, – может. Он сделает. – Женя морщился и молчал. Через некоторое время, скрепя душу, согласился и заказал мне необходимые химикаты.