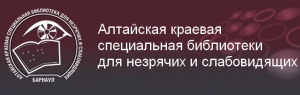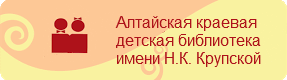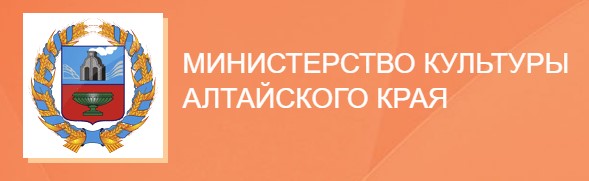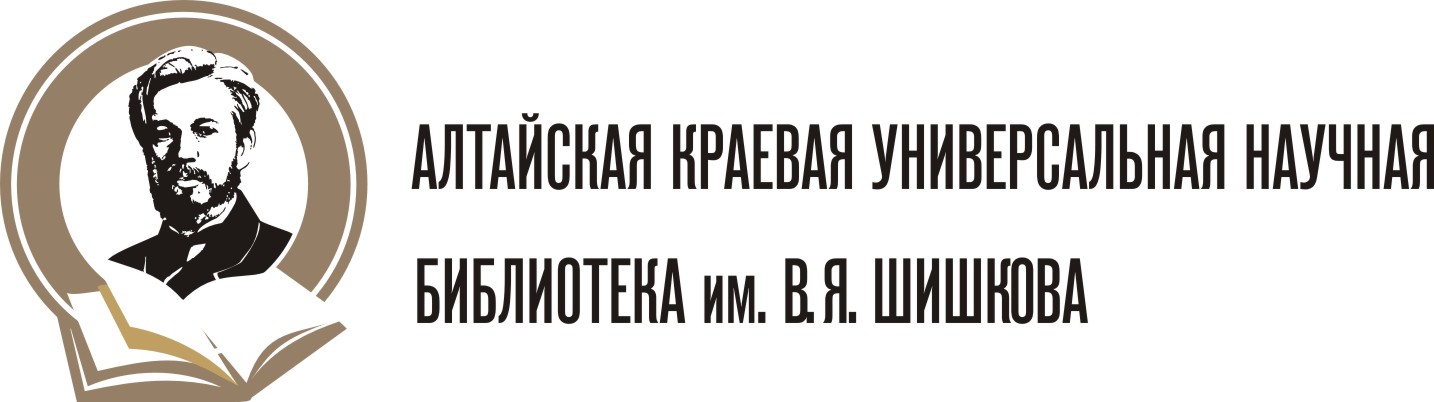Писатель заставляет читателя задуматься над тем, каков нравственный смысл случившегося с Рытовым. Во всем ли он был прав в отношении к Клубкову да и к людям вообще? И если прав, то почему тогда распадаются связи с людьми, почему сдвинулось что-то в душе и мучает…
И здесь образ набирает новую силу, поворачивается новыми гранями, внутренне драматизируется, становится еще более многоплановым художественно и убедительным. Если раньше Иван Рытов не тревожил себя мыслью о том, какой он, не задумывался над нравственными последствиями своих поступков и слов, то после принципиально важного для всей художественной атмосферы романа спора с Клубковым Рытова начинают одолевать сомнения: «Злой… А может, со стороны виднее? Может, и на самом деле озлился он на всех и вся?
…Неужели на самом деле рассеяна она (правда — В. Г.) как солнце повсюду? И по правой стороне и даже по левой. Не знаю, не знаю… Первый раз в жизни не знаю». Такое «незнание» говорит о внутренних сдвигах в душе, о новом художественном качестве эволюции персонажа.
Художник именно тогда художник, когда показывает не плакатность, однослойность характера, а его многозначность. Е. Гущин, по-моему, умеет увидеть, что иногда и «стерильная» правильность оборачивается против самой себя.
Но наибольшей удачей писателя, несомненно, является образ Клубкова. Со страниц романа встает сложный, неоднозначный характер. Судьба героя складывается поистине драматично. Причем как всякий настоящий художник Е. Гущин любит своего героя, т. е. понимает его изнутри, в то же время, разумеется, не идеализирует его.
Клубков — не алчный браконьер, не похож он на тех плакатных злодеев, над которыми иронизирует автор: «Воображение услужливо нарисовало то, что не мог увидеть сквозь тьму: идет к его кедру браконьер — низкий корявый мужик в кирзовых сапогах, стеганой телогрейке и зимней шапке. Он небрит. Бритым браконьера Артем представить не мог. На всех плакатах, которые ему довелось видеть, браконьер — молод, стар ли — с недельной щетиной на красноносом лице».
Да и вообще, если вдуматься, браконьер ли Клубков в том значении слова, какое мы вкладываем в него теперь? Не амнистируя своего героя, писатель дает нам неоднозначный материал для раздумий.
Ведь в словах Клубкова есть своя правота: «…Ты меня с ним, с браконьером, не путай, Артемий, сильно мне это обидно. Я почему марала на зиму завалил? Потому что с голоду помирать не хочу. Я мясом не торгую на базаре в Ключах. Я тайгой живу. Дед мой жил, отец жил, теперь я так живу. Мне чем-то другим, кроме как промыслом, кормить себя несподручно. Валить лес не хочу. Поперек души мне живой лес валить. Окромя тайги, мне ничего не остается. Только она, родная…»
Из рода в род жили тайгой Клубковы и чувствовали себя в ней хозяевами, распоряжались в тайге умело, по-хозяйски. Добывали на прокорм семьи ну и в запас, на черный день немного, меру знали. Угодья свои подчистую не облавливали. А когда «шишковали», то опять бережно, ветки зря не ломали. Боялись: отец увидит — отхлещет хворостиной, приговаривая: «Не пакости в тайге, не пакости!»
Каким контрастом звучат слова писателя о бригадах шишкобоев, частников, которые, не задумываясь, валят деревья, чтобы обобрать с вершины десяток-другой шишек. И по-своему закономерен тот неутешительный вывод, к которому в конце романа придет Артем Стригунов: «Клубков— браконьер? Да он ангел по сравнению с рудоуправлением. Или леспромхозом. Кого из них больше тайге бояться?»